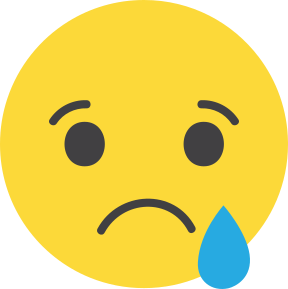8 декабря 1993 года я встречался с Алесем Адамовичем в Москве, в возглавляемом им Всесоюзном НИИ кинематографии.
К пяти часам уже стемнело. Адамович один ждал за письменным столом в любимом своем свитере. В кабинете, который одновременно являлся рабочим местом половины сотрудников (поскольку шла реставрация здания), уже никого не было.
Я вспомнил, как по его приглашению побывал здесь лет за пять до последней встречи, на первом заседании совета антисталинского общества «Мемориал». За столом сидели избранные народным голосованием Юрий Карякин, Евгений Евтушенко, Юрий Афанасьев, ждали Андрея Сахарова. Не смог приехать Василь Быков. Александр Солженицын прислал телеграмму. Скажите о Куропатах, подтолкнул меня Адамович, и я рассказывал о нашей горькой Голгофе, о «Мартирологе Беларуси», о планах установить памятник жертвам…
Алесь Адамович, Иван Мележ, Иван Науменко и Янка Брыль. Конец 1960-х гг. (Из архива семьи И. Мележа).
Перед началом интервью Адамович набрал минский номер Василя Быкова, интересовался новостями судебного процесса против Светланы Алексиевич, которую судили за книгу «Цинковые мальчики». После этого я включил диктофон.
Александр Лукашук: «Алесь Михайлович, когда вы последний раз были в Беларуси?»
Алесь Адамович: «В Беларуси я был давно, потому что почти целый год я находился в больнице, как это ни печально. Правда, из этой больницы я вынес повесть. И там есть глава «Из-под капельницы». Здесь никакой параллели, но какая-то горькая ирония есть — с книгой «Из-под глыб». Повесть я отправил в Беларусь, а сам почти что весь год болел, только недавно вышел на работу».
Лукашук: «Повесть «Vixi» появилась в журнале «Полымя», возможно, это самая ваша личная, трагическая вещь… Вы появились в этом году в Беларуси еще и в журнале «Беларусь», где печатались ваши рассказы. На каком языке вы писали свои последние произведения?»
Адамович: «Я считаю себя русским и белорусским писателем. Чтобы быть, так сказать, уверенно белорусским прозаиком, нужно быть человеком из деревни. Наш язык целиком из деревни, а тот язык, который у нас был в Минске, в университете, и в моей Глуше, где был этакий волапюк польско-русско-белорусский, создавал и создает у меня некую неуверенность в смысле богатства языка.
Я как человек, который держится двумя руками за перила, держусь и за русский язык, и за белорусский. Оно так и продолжается — и на русском языке пишу, и на белорусском.
Живя в Беларуси, я чаще печатался в Москве. Мы находились в таких условиях, когда считалось, раз ты на белорусском языке написал, в Москве не мог напечататься раньше, чем в Беларуси. Если бы только я показал «Карателей» на белорусском языке, представил на белорусском языке в Беларуси, мне бы их тогда, конечно, похоронили, угробили, и я бы не мог выйти вообще в печать. И это тоже диктовало языковую двоякость.
А теперь, когда я и по необходимости, и по всяким другим причинам живу в Москве больше, чем в Минске, я этим не связан, и я с большой охотой пишу по-белорусски.
«Беларусь» взяла мою повесть «Нямко» [«Немой»], «Полымя» взяло «Vixi». И там это произведение на белорусском языке раньше вышло, чем в «Дружбе народов».
Алесь Адамович, дочь Наталья и жена Вера Семеновна. Фото: Могилевская областная библиотека.
Лукашук: «В повести «Vixi» вы много говорите, упоминаете, рассуждаете о своей маме. Такое отношение человека вашего возраста к матери не совсем обычное. Почему это для вас важно сегодня?»
Адамович: «Ну, пожалуй, чувство вины, которое у нас возникает в конце жизни к тем, кому что-то не досказал, не добавил, не успел выразить, не успел отблагодарить по-настоящему. Для каждого мать есть мать, а моя для меня — в самой повести чувствуется, что она была за человек.
А главное, что я вдруг почувствовал уже после шестидесяти лет, — я только сейчас начал понимать свою мать.
Когда я писал «Войну под крышами», «Сыновья уходят в бой», мое внимание как-то не сосредоточилось вот на чем. Мать была подпольщица, партизанка, и я ни разу — я это сейчас только понял — ни разу не почувствовал ее ненависти к тем, с кем она боролась. Боролась, как миллионы людей, сотни тысяч в Беларуси.
Пришли немцы, рядом оказались какие-то люди, которые угрожают тебе и твоей семье уничтожением. Казалось, ты не можешь сопротивляться, не чувствуя к ним ненависти. И мы, я помню, этим чувством только и жили.
И я вдруг почувствовал и теперь понял, вспоминая всё, все самые крутые моменты военной нашей одиссеи, что всё, что она делала — а делала она вещи, в которых для нее и семьи угроза заключалась огромная, — всё это не содержало никакого чувства ненависти».
Лукашук: «Что такое ненависть к человеку?»
Адамович: «Ненависть — это, прежде всего, несправедливость. Как только ты человека начинаешь ненавидеть, ты ему отказываешь во всех тех качествах, которые считаешь присущими себе и тем, кто рядом с тобой. Враги — это те люди, которых ты ненавидишь, и тем самым отказываешь им во всех человеческих качествах, которые тебе свойственны. И мы жили, так боролись.
Когда я писал свои первые книги, я в наших врагах — полицаях, немцах, бургомистрах, власовцах — не видел тех человеческих качеств, которые признавал в себе.
А мать — это, по-видимому, народное такое чувство, не ей одной свойственное, это как раз народу присущее, женщинам нашим, крестьянкам, — она не отказывала им в этом. Да, они на той стороне, они наши враги, они страшные для нас люди, они нас уничтожить хотят, а мы их, — но вот этой ненависти не было.
Почему это для меня так важно? Вы помните нашу литературную жизнь в Минске и здесь; в каком дьявольским котле, чугуне варились мы во взаимной ненависти к нашим уже литературных оппонентам, литературным противникам!..
У меня в «Vixi» есть одна реальная деталь. Я однажды садился в троллейбус в Минске, людей немного было, и вдруг я почувствовал — кто-то меня заталкивает в этот троллейбус с не просто недюженной силой, а с силой ненависти. Я впервые почувствовал ненависть как нечто физическое. Я обернулся и увидел всего только писателя.
И тогда мне стало страшно. Не от того, что он мне что-то сделает, а — во что мы превратились? Что же нас так развело, что он меня настолько ненавидит? И, видимо, у меня какие-то чувства к нему этакие бесчеловечные…
И теперь, когда этот человек давно умер (умрем и мы скоро), думаешь: постой-постой, вот когда мы встретимся там, интересно, мы и туда перенесем наши литературные, политические и другие чувства?! И вот теперь я вспоминаю свою мать, которая даже в самые страшные, 1942-43 годы, участвуя в сопротивлении, этой болезнью не страдала.
Для меня она в этом смысле не просто мать. Это такой нравственный урок, который сейчас мне особенно нужен».
Лукашук: «Алесь Михайлович, если судить пристрастно, мне кажется, ваш пацифизм, был продиктован не одной любовью…»
Адамович: «Если вы об этом заговорили, я не могу не начать вот с чего. Я очень горжусь моей Беларусью, тем, что она отказалась от ядерного оружия и показала пример всем государствам — имею в виду и Россию, и Украину, и Казахстан, и других, которые сегодня ищут эту погибель на себя и на других.
Беларусь оказалась единственной страной, единственным народом, который имел это оружие и имел возможность придержать его, подержать в руках, поиграть этой страшной вещью, — и отказался.
Я не думаю, что это точка зрения всех политиков наших, не думаю, что это точка зрения политиков и справа, и слева, и радикальных, и демократов. У меня были споры, даже с людьми близких мне взглядов, которые говорили так: «Пусть хоть заплатят нам!» И тем не менее, Беларусь поступает очень честно, отказываясь от этой погибели, которая, конечно, для всех погибель, для всего мира и для нашей страны.
И думаю, что это идет от — у нас очень любят слово менталитет — от белорусского, народного. И не только от чернобыльской памяти, но что-то есть в нас… Было? Может, мы и потеряем это, что проявилось так замечательно…
Когда я думаю о реакции людей на всё, что сегодня происходит и в России, и в Беларуси, и в Украине, в бывшем Советском Союзе, я думаю, можно пожалеть, что не все в свое время по-настоящему испугались этого оружия. Не все по-настоящему осознали угрозу, которая была очень реальна. Не все до сих пор и понимают, от чего мы спаслись, от чего ушли.
Если бы это все имели в виду, помнили, я думаю, не было бы вот этого вопля, стенания, плача: «Вот, развалили всё, всё разрушили, стало хуже, чем было, и неизвестно как из этого выйти, и надо возвращаться назад!», и так далее, и так далее.
Если заглянуть на десять-пятнадцать, на двадцать лет вперед, а уж если на сто, на двести, на триста, пятьсот, то тем более, этот развал — это было спасение. Иначе спастись не только нам, а всему свету не удалось бы.
Эта система готова была уничтожить всех, лишь бы только прожить еще, просуществовать. Мы теперь знаем, какие были подготовлены бункеры под Москвой на десятки километров, второй город для десятков тысяч номенклатуры. Они готовы были там, как крысы, жить пять-десять-тридцать лет, подставив и свою страну, и свой народ под ядерный удар, лишь бы существовать в том качестве, в котором они существовали.
Я когда-то очень обидел Ивана Ивановича Антоновича, он там в Минске сейчас, а был большой человек в Москве…»
Алесь Адамович и Василь Быков.
Лукашук: «Он и теперь, Алесь Михайлович, «большой». Когда в Минск заезжал госсекретарь США Уоррен Кристофер, то Кебич разговаривал с ним, и рядом сидел Антонович. Так что человек как был «большой», так и остался…»
Адамович: «Я и говорю, здесь он был при Полозкове [И. К. Полозков зарекомендовал себя жестким политиком консервативного направления, противником горбачевского курса «перестройки» и ельцинских реформ] «большой», там он при Кебиче — это значит, что человек этот еще нужен. Значит, мало что изменилось».
Лукашук: «Знаете, по телевидению показали его рядом с премьером, а на фотографии в газете заретушировали, не было».
Адамович: «Да, это уже интересно. Я его очень обидел когда-то, написал в «Литературной газете» о том, как он звал меня в ЦК, а потом мы встретились с ним, когда приезжала редакция журнала «Музыкальная жизнь», он счел необходимым это во второй раз мне повторить — что вот я, как пацифист, плохо очень понимаю, как надо на все смотреть.
И, знаете, глядя такими светлыми глазами, мне сказал: «Ну что же, погибнут все, но если останется даже десять человек, главное, чтобы они остались советскими людьми».
Иван Иванович потом говорил, что он ничего такого не говорил, ну и доказать я это не могу. Я могу только в его оправдание сказать, что это не его была мысль. Я думаю, что это была та военная доктрина, которая на уровне московского ЦК, минского ЦК, на уровне разного рода военных структур существовала в нашей стране.
Ну как можно было, понимая, что победы в войне не может быть, воспитывать народ в преданности системе, которая готова с ядерным оружием защищать свое существование? Только так можно было: война погубит всех, но самое главное, чтобы люди, которые под руинами останутся, были советскими людьми.
Ну вот рухнула система, руины коммунизма лежат, придушили российский народ, белорусский народ, украинский и другие народы. И вот забота всех наших вчерашних руководителей — чтобы люди под этими руинами оставались советскими людьми. Очень парадоксально, что так оно и происходит. Очень многие, чувствуя на себе эти руины, когда тяжесть камней вчерашнего коммунизма не дает подняться, не понимают, что именно их подавляет. Им кажется, что их давит что-то новое.
Да ничто новое их не давит! Никакая демократия их не давит. Их давит все тот же социализм! Все тот же коммунизм, все та же номенклатура. Эти руины и придушили.
И Иван Иванович оказался пророком: они все же воспитали миллионы людей в том духе, что многие и под руинами коммунизма остаются теми же советскими людьми.
И это большое несчастье. Реформы с трудом идут и в России, и в Украине, а в Беларуси почти не идут. И не только потому, что руководители остались прежние. Я думаю, и сами мы под этими руинами социализма все еще остаемся вчерашними советскими людьми».
Лукашук: «Алесь Михайлович, помните, приезжала первый раз в Москву «железная леди», Маргарет Тэтчер, и была такая показательная телепередача, когда против нее выставили трех боевых советских публицистов.
Спор шел про атомную бомбу, и Тэтчер сказала, что только благодаря ядерному оружию Европа не знала войны последние почти пятьдесят лет. Насколько, вы думаете, сила важна для сохранения мира и победы добра?»
Адамович: «Знаете, кажется, что правда на стороне Тэтчер, потому что так и получилось. Они, имея ядерную бомбу, не испугались угрозы с Востока — у нас были страшные ракеты на десять, на сотни мегатонн, одна такая ракета могла уничтожить Англию вместе с Тэтчер и всеми островами.
Вроде бы правота на их стороне, и тогда можно сказать, что и Антонович по-своему правильно рассуждал, и Брежнев, и все те, кто на бомбе выстраивал свою политику. Но это только потому, что… Не знаю, что спасло человечество и людей, могло бы быть совсем иначе, мы бы с вами здесь не рассуждали, не сидели бы здесь, и не осталось бы памяти ни о Тэтчер, ни о ком.
Это не только на уровне Тэтчер. Когда Андрей Дмитриевич Сахаров приехал из Горького, мне посчастливилось с Владимиром Синельниковым побывать у него. Сахаров не Тэтчер и не кто-нибудь там еще.
И с Сахаровым я тогда повел себя как неисправимый пацифист. Я стал спрашивать: Андрей Дмитриевич, скажите, в вас живет комплекс Оппенгеймера? Вы чувствуете вину за то, что в истории останетесь отцом водородной бомбы? Он сказал: во-первых, не я один, коллектив создавал, но это было нужно, — и та же логика, что у Тэтчер.
Я повторно зашел с этим разговором, с другой стороны. Андрей Дмитриевич говорит: нет. Я говорю: вот вы стали правозащитником, стали конфликтовать с Хрущевым, с нашей системой, требовать открытого общества, одним словом, испугались, что не в те руки отдали это страшное оружие. Он — стоит на своем все равно.
И тогда я сказал: Андрей Дмитриевич, давайте теперь представим: всё-таки всё взорвалось, и мы летим — мой пепел летит, и ваш рядом. И мой пепел у вашего спрашивает: Андрей Дмитриевич, и теперь вы скажите, что были правы и что правильно, надо было этот час готовить, чтобы уберечь мир? Он сказал: о том я еще не знаю, потому что еще не почувствовал.
Впоследствии, когда я читал его воспоминания и прочее, я все-таки понял, что этот комплекс Оппенгеймера в нем жил, был. То, что он стал действительно героическим борцом, один против всей системы, все же шло от того, что он ощущал ответственность за то, что сделал.
Мы все ругаем КГБ, НКВД, ГПУ — и все правильно, но единственное, за что можно быть благодарными, так это за неуничтоженные архивы, где хотя бы какие-то документы остались.
Вот они подслушали однажды разговор академика Ландау. Он в 1956 году уже говорил, что или система наша социалистическая мирно уйдет с исторической арены, или будет неминуемо атомная война. И никто — ни Ландау, ни Сахаров, ни Солженицын — не верили всерьез, что она может мирно уйти с исторической арены.
Так произошло — это огромное счастье, огромная удача, и поэтому тот развал, о котором столько льют слез, — попросту плата за то, что человечество спаслось».
Это интервью прозвучало в эфире в первые январские дни 1994 года. 26 января сердце Алеся Адамовича перестало биться. В такие вести не веришь, как не веришь в собственную смерть.