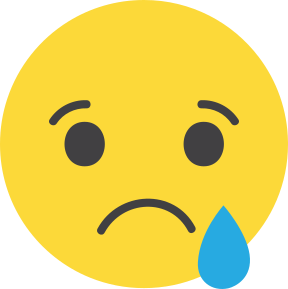Бо праўда жыве ў народзе.
[Ведь правда живет в народе.]
Сержук Соколов-Воюш
Truth like-like a blanket that always leaves your feet cold.
[Правда похожа на короткое одеяло, под которым ногам всегда холодно.]
Dead Poets Society [«Общество мёртвых поэтов»]
Столетний юбилей Октябрьского восстания «проверяет» белорусскую националистическую историографию на способность искать и видеть то, чего раньше не замечали; к сожалению, она плохо справляется этим вызовом.
Владимир Стельмашонок. «Народные комиссары БССР — Д.Ф.Жилуновiч, А.Ф.Мясников, В.Г.Кнорин, И.А.Адамович, А.Г.Червяков.
«Рефлекторное» отношение белорусского интеллектуала к большевистскому проекту можно было наблюдать на проходившем в Варшаве в этом году Конгрессе исследователей Беларуси. На дискуссии, посвященной 100-летней годовщине, представитель белорусского экспертного сообщества Владимир Мацкевич говорил что-то вроде «коммунизм — абсолютное зло». В то время как немецкие выступающие, Томас Бон (Thomas Bohn) и Феликс Аккерман (Felix Ackermann), пытались направить разговор в сторону работы с понятиями (модернизация, нациотворчество, эмансипация).
Когда ключевые идеологи белорусского национализма обращаются к истории Беларуси в ХХ веке, часто их аргументация превращается в такое же штампотворчество и изречение трюизмов, сопряженное с морализаторством и фантазиями. Яркие примеры — прошлогодний видеоролик журнала «Ідэя» или совсем недавняя реплика Сергея Дубовца, в которой он полностью отрицает значение Октябрьской революции для белорусских нациотворчества и государственности.
Преимущества исследовательской оптики
Совершенно иную перспективу можно видеть в научных дискуссиях. Для изучения революционного и, шире, советского, опыта там употребляют совсем иной язык (система понятий) и иные вопросы. Программы революции и революционные меры эффективно влияли на повседневность в бывшей империи, создавая неслыханное богатство оригинальных форм социальной организации, границ интеллектуального поиска и возможностей коллективно действовать. Недаром речь идет про «глобальные импликации» (последствия) этого события, а 1920-е годы вообще иногда называют «советским моментом» в мировой истории — поскольку в этот период ленинский проект освобождения народов повлиял на национализм на всем земном шаре, затмив прежние «Четырнадцать пунктов» Вудро Вильсона.
Интеллектуальное преимущество этих подходов налицо.
Достаточно обратиться, например, к публицистике и автобиографическим материалам Томаша Гриба, чтобы убедиться: его наследие не умещается в схематизм Дубовца.
Но превосходно соотносится с размышлениями о революционной биографии Сандры Дальке (Sandra Dahlke; в интернете есть видеозапись ее доклада на эту тему). Именно в отсутствии понимания важности этого эмпирического материала и частного жизненного опыта лежит главный недостаток изложения истории «тысячелетней Беларуси».
Кстати, ту же интеллектуальную близорукость демонстрирует нынешняя «официальная» академическая историография. Ее этатизм («государственничество») и теоретическая блёклость, восполняемая идеологическим запалом и «точкой зрения белорусского народа», сильно напоминают «правду» Дубовца.
Октябрьская революция, или, шире, трансформация империи, «последовательность кризисов 1914—1921» годов, понимаются как тектонические сдвиги и в целом обществе, и в отдельных биографиях. Это имел в виду Владимир Жилка, когда писал про «час гэты «спакус», когда на мапу Еўропы ўзышоў беларус». Грани этого исторического момента — революция и колониализм, эмансипация и новые формы цензуры, субъектность и насилие, — некоторым образом известны и из отдельных исследований по истории Беларуси.
Дубовец легко сбрасывает со счетов 1920-е как иллюзию и провокацию. Между тем Ростислав Платонов, Елена Маркова и Пер Андерс Рудлинг (Per Anders Rudling) представили широкую, красочную панораму этой «красивой эпохи». Можно с осторожностью говорить об иллюзиях, но идея о «провокации» — теория заговора в чистом виде. Речь идет о десятках, сотнях тысяч людей, мобилизованных «республикой Советов», которые ежедневно работали над белорусской государственностью, разделяя идеалы новой политической и общественной системы, боролись за влияние, участие и представительство.
В конце концов, можно взглянуть — просто в порядке несложного интеллектуального упражнения, — на 25 октября глазами современников. Юрий Туронок, например, считал, что лидер белорусского национализма в 1910-х годах Вацлав Ивановский позитивно воспринял новое правительство, в частности, его национальную программу. А позже Зоська Верас самокритично написала о минской белорусской национальной среде осенью 1917 года: «Читали постановление Ленина <…> Читали и были настолько наивными, что верили».
Стоит хотя бы задуматься, что в январе 1919 года Томаш Гриб приветствовал «Беларускую Рэспубліку Радаў» [«Белорусскую Республику Советов»]. «Тысячелетняя Беларусь» не в состоянии усвоить этот опыт, даже распознать его. Зато он полностью проясняется в контексте обыкновенного академического исследования. Мой коллега Даниэль Шрадер (аспирант Регенсбургского университета, Германия) исследует, каким образом в революционную эпоху «вершилось» представительство в советах и думах.
Он рассматривает коммуникационные средства, посредством которых в то время формировалось политическое общество, исключения, дееспособность, которые вообще означали революцию, политику и демократию. Советы, думы и остальные представительства являлись площадкой «коммуникационного конструирования политического общества и особенности», там возникали своего рода «референции», позволявшие в ежедневной практике идентифицировать демократов, революционеров — а в Беларуси, например, и представителей «белорусской профессии». Не морализаторство и сила заднего ума в публицистике Томаша Гриба в 1919 году, а размышление об интеграционном потенциале и механизмах размежевания в проекте революционной демократии, о коммуникационных точках сборки новой политической организации.
Это все формирует живую ткань исторической действительности, богатую динамику «уроков прошлого». Отказывать этим свидетельствам в значимости, игнорировать их как иллюзии и провокации — сродни высокомерию «слепых доцентов», о котором пытается писать Дубовец.
Комплекс победителя
В размышлениях Дубовца присутствует интересное объяснение противоположного взгляда на Октябрьскую революцию: это «стереотип российской провинции и продукт рабской психологии». Кажется, однако, что и во взглядах самого Дубовца можно обнаружить интересные следы комплекса неполноценности. Своего рода гиперкомпенсацией, вероятно, является гипертрофированное стремление «нормализовать» исторический опыт белорусов, особенно что касается национального строительства:
«С 1906 года — как из рога всего много — белорусские газеты, школы, партии, церковь, театры…», «всё, между прочим, как у всех», «что у белорусов, что у финнов или немцев», «ничем не хуже французов, или чехов, или норвежцев».
Данное видение, и правда, можно назвать «комплексом победителя». Алексей Дерман назвал как-то так или иначе воображаемое сообщество сторонников Лукашенко «нацией партизан и победителей». Фрустрация самого Дермана, который, будучи в прошлом неоязычником и кривичом-литвином, теперь стал лояльным участником ток-шоу на БТ, отразилось в этом определении, как в зеркале. Не будет ли «розовый туман» снова и снова приводить Дубовца к такого рода разочарованиям?
Представление о том, что в белорусской культуре между 1906 и 1914 годами сложилась ситуация сказочного изобилия («из рога всего много») — болезненный мираж. О положении газеты «Наша Ніва» Иван Луцкевич как-то признался Дмитрию Жилуновичу (Цишке Гартному): «Трэба кідацца ва ўсе бакі, каб дастаць капейку-другую на нашу справу» [«Приходиться бросаться из стороны в сторону, чтобы достать копейку-другую на наше дело»] (цитата из «НН», 2/1991, с. 9). Белорусский национализм действовал в условиях страшного финансового дефицита и слабости институтов.
Это, кстати, к вопросу о том, «почему не состоялась БНР» (которая, бесспорно, не состоялась, остальное — wishful thinking). Как иногда объясняли марксистские историки в 1990-х, это было связано с отсутствием поддержки со стороны буржуазии. Именно она обычно финансово поддерживала национализм и создание государств вообще. Как писал Чарльз Тилли (в статье «Война и строительство государства как организованная преступность»): «доступ к ресурсам буржуазии оказался для государей решающим при осуществлении политики государственного строительства и централизации».
Дубовец не интересуется историческими сюжетами об управлении финансовым дефицитом, рекрутировании новых сторонников или социальном капитале участников белорусского национализма, поэтому он вне того, чтобы формулировать и анализировать поражения. Он принимает логику пафосного самодовольства («нация победителей») и плетет кружево из передергивания, выдумок и произвольных интерпретаций. Эффект от такого «исторического» труда вряд ли может быть долгосрочным.
Вячеслав Носевич высказывался в духе противоположной крайности: ««адраджэнскія» мифы все время предлагают в качестве героев каких-то политических лузеров». Если Янка Купала в 1910 году не был поэтом номер один в тогдашнем [Северо-Западном] Крае, если Антон Луцкевич 1913-м не возглавлял многотысячную партию, а Роман Скирмунт в 1918-м не управлял реальным государством (в отличие от своего современника Павла Скоропадского в Украине) — они уже только поэтому, согласно логике Носевича, какие-то никчемности.
Носевич, в конце концов, силится искать своих героев в советском прошлом, а Дубовец упорно перекрашивает реальных исторических персонажей в манекенов успеха.
Идеологическая стагнация?
В таком некритическом, интеллектуально бедном белорусском национализме мне видится зеркальное отражение советско-белорусской мифологии Великой Отечественной войны в состоянии конца 80-х. Ирония в том, что именно Дубовец, как первый руководитель восстановленной «Нашей Нивы», организовывал оригинальную и изобретательную работу с этой мифологией.
Выход из тупика «некритического национализма» лежит там же, где в 90-х для «истории войны» его искала «НН». Кратко его можно обозначить как «антропологический подход» к изучению крупных сообществ (так украинский исследователь Алексей Толочко характеризовал идеи Бенедикта Андерсона). Фантазиям о всенародной борьбе и ведущей роли партии, спекуляциям о предателях и коллаборантах, высокомерному самодовольству и открытым фальсификациям «Наша Ніва» противопоставляла воспоминания, малоизвестные документы и литературные произведения. Голоса и память Ларисы Гениуш, Зои Ковш (Каўшанкі), Антона Адамовича, Вацлава Ивановского, Витовта Кипеля, рассказывавшие о повседневном выживании, о школах и праздниках, об участии и представительстве, убедительно ставили под сомнение скомпрометированную академическую историографию.
Антропологический подход иначе определяет акценты наблюдения и анализа. Документация дискурсов и языков должна дополниться обращением к практикам ежедневной работы, коллективам и группам, коммуникации. Замечания о представительности «Всебелорусского конгресса» или принятии декларации независимости БНР, вскользь оброненные Дубовцом, не исчерпывают исторический материал. Он намного богаче: Всебелорусский съезд финансировался из Петрограда, велся преимущественно по-русски, в резолюции выступал против отделения Беларуси от России…
Некоторые исследователи уже предпринимали шаги в духе антропологического подхода. Валентин Мазец рассматривал деятельность Рады БНР по формированию института белорусского гражданства (защита интересов местного населения перед немцами, работа с беженцами), Сергей Крапивин допустил публицистическое преувеличение о том, что в 1918-м Рада БНР спасла страну от массового голода. Финансовые вопросы в деятельности «Найвышэйшай рады БНР» (1920-й) изложил Андрей Чернякевич. Он цитирует любопытный документ польской разведки о состоянии «Найвышэйшай Рады»: «с каждым днем расширяются сферы интересов и работы». Примечательно, что антропологический подход дисквалифицирует застарелый пропагандистский тезис об отсутствующих «атрибутах государственности» БНР вроде армии и границ.
Почему же об этом не может рассказать новая национальная история? О сферах интересов и работы, про менеджмент и бюджеты, про коллективные проекты и индивидуальную рефлексию, про риски и надежды.
Что делать? Прагматика ревизионизма
Присутствует в заметке Дубовца одна интрига, связанная с техникой исторического просвещения, как он ее видит. Вот же не в преумножении оригинальных смыслов и нового содержания, а в систематическом повторении уже известной правды. Это выражено дважды: «правда <…> прозвучала уже много раз»; «Их [факты] придется еще долго повторять». Две параллели одной мысли кажутся важными.
Нейробиологические исследования памяти показали, как мозг справляется с запоминанием: «следы памяти», т. н. энграммы, представляют собой не определенные «места» мозга, но последовательность нейрональных связей.
Воспоминание каждый раз конструируется заново: вспоминая что-то, человек реактивирует, «вызывает» эти связи (как по ссылке), и чем чаще событие или факт вспоминаются, чем чаще эти связи «упражняются» мозгом, тем прочнее они хранятся. «То, что должно остаться в памяти, требует консолидации в регулярном продумывании и прочувствовании этого события», — пишет немецкий исследователь памяти Харальд Вельцер. Обычно это происходит коллективно — в семье, кругу друзей, товарищей по партии и т. д.
Авторы курса «Новая имперская история Северной Евразии» публикуют следующее наблюдение о том, как секта протестантов-штундистов в начале ХХ века повлияла на внутреннюю организацию украинского национализма:
<…> опыт штундистов был заимствован в начале ХХ в. поздней демократической версией украинского национализма, который отказался от исключительно «исторической» фиксации на казацком (или киевском) прошлом и фольклорной культуре. Новая идея «национального служения», забота о здоровье «национального тела» (осуждение курения и алкоголя), центральная роль чтения и регулярного обсуждения ключевых национальных текстов [выделение мое. — АЛ] сильно напоминали протестантский пиетизм.
Кажется, эти наблюдения и идеи — Дубовца, российских историков, немецкого нейробиолога, — прежде всего можно применить к «педагогике и продуктивности национального государства». С теми или иными изменениями они могут быть перенесены на сам национализм и его идеологию, требуя от них гибкости, динамики и рефлексивности.
Некритическое, без изменений, восстановление ранее существовавших риторических фигур и формул вызывает как минимум подозрение. Оно демонстрирует неспособность увидеть знаки времени, артикулировать и представлять себе «Zeitgeist» [дух времени]; недаром раздаются голоса о том, что национальная история не нужна «креативным и демократическим белорусам». Инфляция националистической программы после 1996 года связана в том числе с догматизмом, присущим ее ключевым идеологам, в том числе Дубовцу. Призыв «будьте реалистами», направленный против интеллигентского доктринёрства и прожектёрства (Дынько), требование нарушить зависимость от российского информационного пространства, развить вкус к западной теории (Булгаков) остались недослышанными.
* * *
Сумеет ли белорусский национализм преодолеть интеллектуальную стагнацию? Это зависит от работы над идеями в рамках этой идеологической волны.
В книге самого Дубовца о деятельности молодежного объединения «Майстроўня» Николай Сосновский цитирует Алеся Рязанова: «Чем больше мы напишем произведений, похожих одно на другое, тем больше мы обедним нашу литературу» («Майстроўня», 2012, с. 82).
«Это меня шокировало», — добавляет Сосновский.