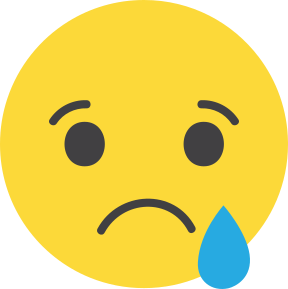Судья Марина Запасник приговорила активистку «Страны для жизни» за «грубое нарушение общественного порядка». Дома у Ольги адаптол, стопка писем, которые она получила, находясь за решеткой, и рыжий кот. «Уже не обижается, что я так надолго исчезла». Ольгу Павлову задерживали четыре раза. Последний — при разгоне на Площади Перемен, после чего были тюрьма в Жодино, семнадцать дней карцера, Володарка, суд и приговор. А после первого задержания 9 августа — как врач, с сумкой для оказания первой помощи она находилась в центре событий — Ольга попала на Окрестина. В тот день ее задело резиновой пулей, а на ноге до сих пор виден шрам от осколка светошумовой гранаты. В конце концов она познала на себе и «газовые камеры».
— Когда я вышла, была в ужасе и панике и сразу уехала с сыном на дачу. Психотерапевт определила у меня диссоциативное расстройство, при котором отключается эмоциональный фон. Находясь на Окрестина, я думала, что мы все скоро умрем, но никому не могла об этом сказать, потому что началась бы паника. Чтобы не сойти с ума, мозг просто отключил эмоции. Постепенно подключать их имеет смысл, только если ситуация стабилизируется и людей перестанут хватать на пути в магазин. Но когда в Жодино меня посадили в карцер, август накрыл с такой силой, что иногда мне казалось, что сердце вот-вот остановится. В крошечном помещении с плохой вентиляцией нечем было дышать, и из-за низкого уровня кислорода организм сразу вспомнил те три дня.
У меня было по четыре-пять панических атак в день, а по факту я все семнадцать суток снова проживала Окрестина, слышала, как кричат мужчины. Я до сих пор не могу понять и принять, как такое вообще могло произойти. И пережить это не могу. Помню, когда я вышла, люди с надеждой спрашивали меня, был ли у силовиков какой-то акцент, может быть, это все же нанятые русские или украинцы. Они бы с удовольствием в это поверили, но нет, это были наши.
— За что вас отправили в карцер?
— За то, что отказывалось здороваться, хотя в обязанностях это не прописано. Для меня большим ударом было то, что армия не встала на защиту населения. Я верила в мужские честь и достоинство, а получилось так, что нас били и продолжали бить, а защиты мы не получили. Поэтому то, что я попала в тюрьму в Жодино, где сотрудники — военнослужащие, стало насмешкой судьбы. В камерах это называют «минутой славы»: каждый день утром и вечером заходит корпусной в сопровождении постового, возможно, воспитателя, они выстраиваются по росту в шеренгу и начинается это «Здравствуйте» — «Здравствуйте, гражданин начальник».
Чего-чего, но здороваться с этими людьми мне не хотелось. Для большинства сотрудников это было в новинку, они смеялись, говорили, мол, я такая невоспитанная, а в итоге один из корпусных составил на меня рапорт.
— Из-за этого рапорта вы попали в карцер?
— Сначала воспитатель тюрьмы пытался уговорить меня здороваться, а потом отправил к начальнику: наверное, думал, что с ним я точно поздороваюсь. С начальником я тоже не поздоровалась, он поинтересовался причиной, прочитал мое объяснение к рапорту, спросил о нареканиях, я рассказала о тараканах, мы что-то обсудили, и в итоге он назначил мне семь суток карцера. В последующие дни он относился ко мне как к ручной обезьяне, которую можно вытащить из карцера, попрактиковаться в своем красноречии, покрасоваться своим остроумием, увидеть, что существует отличное от его мнение, удовлетворить какие-то свои потребности и отправить обратно в карцер. Это было просто отвратительно.
В карцере я понимала, что моя сердечно-сосудистая система работает просто на износ, поэтому просила валидол и принимала по полтаблетки при каждой панической атаке. В течение семи суток я исполняла все свои обязанности, пять раз в день убирала камеру: у меня паническая атака, посижу в уголке, поплачу, потом успокоюсь, подышу — нормально, пошла мыть камеру. В итоге на меня составили рапорт за пыль на койке и назначили еще пять суток.
— Что вам помогало отстаивать свои принципы даже в условиях заключения?
— Я всегда такая была. Все друзья говорили о моем обостренном чувстве справедливости. Я не унижала достоинства сотрудников тюрьмы. Если у них такое болезненное отношение к критике, это не мои проблемы. Я понимаю, почему меня держали в карцере: из-за привычки насиловать, ломать людей, мол, посидит семь суток и начнет здороваться. Вскоре на меня составили еще три рапорта. Один за то, что я отказывалась войти в бокс, хотя знали, что я состою на учете у психиатра и чтобы войти, мне нужна успокоительная таблетка. Второй рапорт за то, что я якобы буянила в камере: у меня был нервный срыв и я стучала в дверь, чтобы мне вызвали психиатра. На следующий день я позвала постовую и в очередной раз спросила про душ, куда меня не водили уже неделю. Она сказала, что не знает, у кого об этом спрашивать, а мужчина в соседней камере подошел и сказал, мол, слушайте, отведите наконец девушку в душ, и сказал постовой, к кому обращаться. Я его поблагодарила, а та выписала нам рапорты за межкамерное общение. Я поняла, что буду сидеть в карцере, пока не поздороваюсь.
— И вы поздоровались?
— Нет. Я написала заявление на голодовку. Подумала, какой смысл придерживаться правил, и ушла в полный протест, перестала делать абсолютно все: когда ко мне заходили в камеру, я сидела и не реагировала. На четвертые сутки мне стало очень плохо, я лежала и не могла встать. За эти дни на меня составили штук семнадцать рапортов, но за них мне по крайней мере не было обидно.
Наконец приехал мой адвокат, меня к нему чуть ли не принесли, так как идти я не могла. Адвокат был в шоке, он сообщил в Следственный комитет о моей голодовке, хотя сделать это должно было руководство тюрьмы.
Через несколько часов после его визита начальник тюрьмы заключил со мной соглашение, что выпустит меня из карцера через пять суток, если я ничего за эти дни не нарушу.
Через пять дней физически и психически истощенную меня перевели прямиком в медчасть, где я провела с месяц. Думаю, сколько же людей прогнали через то же, но у них не было адвокатов, которые бы рассказали о голодовке. Вот так ломают личность и сводят до нуля человеческое достоинство.
— Как вас задержали на Площади Перемен?
— Мы со знакомым собирались в гости к другу, который там недалеко живет, купили по пути лампадки, пришли к мемориалу, постояли, а потом площадь окружили и на нас пошла черно-зеленая «туча». Вышел Балаба и сказал: мол, граждане, не волнуйтесь, вы проедете для проверки документов. К людям в сцепке подошли и начали выхватывать мужчин, я вцепилась в руку своего друга и сказала, что тоже поеду на проверку документов, потому что не представляла, что скажу его жене, если его заберут. В РУВД на моих глазах избили мужчину, и когда тащили, его голова стучалась о ступени. Поскольку я врач, я стала кричать и требовать медицинского освидетельствования человека, меня отвели во внутренний дворик и начали угрожать: мол, напишут в протоколе, что я была в состоянии алкогольного опьянения. Протокол я не видела, его написали и подписали за меня, что потом выплыло на суде. Через три дня из ИВС меня выпустили, но как только я вышла, ко мне подошел мужчина и сказал, что я перезадержана. Вроде бы он из уголовного розыска. Я посмеялась и спросила: «А вы меня долго искали?» Уголовное дело на меня было заведено две недели тому назад, и за это время мне никто насчет него даже не звонил.
— Не пожалели потом, что пошли вслед за другом?
— Не пожалела. И теперь не жалею. То, что руки дрожат, — я месяц-другой поработаю с психотерапевтом и это пройдет, а совесть у меня чиста и сплю я очень хорошо.
— Как встречали Новый год за решеткой?
— Замечательно встречали. Я тогда была в медчасти в Жодино и как раз на Новый год подцепила вшей: в камере началась эпидемия педикулеза. Нам передали бисквит и орехи, из которых мы сделали торт, что-то купили в магазине, насобирали яиц, которые выдаются в медчасти раз в неделю. Мы приготовили два салата, у нас была мясная нарезка, мандарины. Татьяна Михайловна вырезала елочку, украсила ее снегом из ватных тампонов, но во время вечерней проверки нашу елочку выбросили. Приклеенную мылом снежинку тоже сказали снять. Татьяна Михайловна заказала «Бела-колу» и перед отбоем открыла ее как шампанское, налила каждому по несколько глотков, мы произнесли тосты и в десять легли спать.
— Вы обрадовались, что вам присудили домашнюю химию, а не что-то более серьезное?
— Даже не знаю, как это комментировать. Я вообще впервые в жизни слышу, что человека можно арестовывать за такие вещи. Или за свою работу, как в случае с Дарьей Чульцовой и Катериной Андреевой, или за то, что ты свидетель убийства. Я предполагала, что мне дадут домашнюю химию, пока не начала писать последнее слово. В камере я сидела с замечательной женщиной — она как раз читала «Воскресение» Толстого и зачитывала роман прямо отрывками. Тюремный психиатр вместо адекватного лечения запретил мне «думать, как я думаю». Я спросила, Можно ли мне думать как Толстой. Он сказал: «Да, Толстой, ну, думаю, да, можно». Я спросила, а можно ли как Лермонтов. Он говорит: «Лермонтов, это стихи, ага, как Лермонтов тоже можете думать». Так вот когда я писала свое последнее слово, девушки в камере говорили: «Ну, Олька, какой там у тебя максимальный срок? Три года? После такого тебе дадут пять».
— Правда ли, что на вашем последнем слове зал плакал?
— Я сама волновалась. В стихотворении Лермонтова «Ты мог быть лучшим королем», которое я зачитала в заключение, есть строки:
«О! чем заплотишь ты, тиран,
За эту праведную кровь,
За кровь людей, за кровь граждан»,
на которых я каждый раз вспоминаю Окрестина и мужчин в крови, которых избивают до смерти. И не могу себя сдерживать. Я думала только о том, чтобы на этом моменте не расплакаться, хотя в целом редко когда волнуюсь.
Читайте также: Судили активистку «Страны для жизни» Ольгу Павлову. Во время ее последнего слова люди в суде плакали
— Как прошла встреча с сыном после приговора?
— Перед судом я думала, если меня все же отпустят, сначала поехать домой и помыться или сразу к сыну. И когда вышла, все же сразу поехала к сыну. Он был очень рад, он по мне скучал, я никогда так надолго не пропадала. Его отец, мой бывший муж, объяснял ему, что я в командировке. Но потом я сыну все рассказала, потому что никогда ему не вру. Он сказал: «Что, точно?» И добавил, мол, понял, что что-то не то, потому что слишком долго меня не было. Когда началась предвыборная кампания, я отдала ребенка бывшему мужу: понимала, куда иду и насколько это опасно. Когда мы уезжали из Горок, а за нами пустили две машины с мигалками, сомнений больше не оставалось. Потом ко мне стали приходить и спрашивать о сыне, утром звонили в домофон и представлялись людьми из РУВД, приходили и перед самыми выборами. А когда на меня завели уголовное дело, я почти перестала видеться с сыном — мы общались по телефону либо я заезжала, целовала его и уезжала.
— Теперь как вы с ним проводите время?
— Все выходные мы валялись, обнимались, играли, искали ему пижаму с Пикачу. Пока приговор не вступил в силу, хочу съездить с сыном на природу. Надо еще походить к психологу, чтобы не перенести на ребенка свои проблемы.
— Что еще первоочередного вы сделали, когда вышли?
— Забрала в РУВД телефон, вчера ела пельмени и съела сразу целую пачку… Главным для меня было забрать сына, обнять его, поцеловать, приехать вместе домой, готовить с ним ужин.
— Как вы изменились в связи с последними событиями?
— Я уверена, что никак. Мне просто грустно. И я до сих пор не пережила измену армии. Мое подсознание даже вычеркнуло из памяти праздник 23 февраля, хотя раньше я поздравляла и тех, кто служил, и тех, кто не служил. Я также поняла, как много зависит от человека и что все с него начинается.
— А помимо разочарований вы почувствовали солидарность?
— Конечно, я увидела огромную взаимопомощь. Когда в карцере я начала голодовку, все мужчины меня поддержали и тоже стали отказываться есть. Некоторые выходили, а один проголодал со мной все десять дней.
Соседи помогали моему отцу собирать для меня передачи. За время заключения я получила сто одно письмо, детские рисунки, посылку из Молодечно, где среди прочего были гольфы, нижнее белье, зубная паста и щетка, в одном из писем был пакетик с несколькими кусочками молочной шоколадки. Здорово, что люди заботятся друг о друге и думают о мелочах — это на самом деле греет.
Думаю, было ошибкой сажать людей ни за что: теперь аполитичных у нас совсем не осталось.
— Какой момент за последние месяцы был самым страшным?
— 9 августа. Когда нас забрасывали гранатами и когда в Жодино привели в душевую. Мы не понимали, где находимся, все помещение в плитке, а сверху висят старые вентиляционные ящики с дырами. Я стояла и думала, что теперь будет: пустят газ либо расстреляют?
— А теперь вы чего-нибудь боитесь?
— В принципе, я же закон не нарушала. Сегодня звонили в домофон, а когда я ответила, было только молчание, а потом в квартире пропало электричество — было не страшно, а мерзко. Чувство отвращения у меня пересилило страх.
— Как думаете, с помощью психотерапевта удастся полностью избавиться от травмы?
— Не знаю, но попытатьс надо. Я не буду делать вид, что у меня все замечательно: это действительно психологическая травма. Как говорят, признание проблемы — уже полвыздоровления. На этом жизнь не кончается. Но не факт, что я смогу… Я всегда так стараюсь понять людей, рассматривать их поступки со всех сторон, оценивать все объективно. Но я никогда не смогу найти объяснение поступкам силовиков.
— Обвинение по уголовной статье, задержание на Площади Перемен, Жодино, Володарка, суд — что-нибудь из этого сопоставимо с Окрестина?
— Нет. Окрестина — это ад. Адом для меня еще был карцер, потому что семнадцать дней я снова переживала те три дня ада. А все остальное не идет ни в какое сравнение.